Эпохальный для любого автора жанр, в котором написана эта книга, — на самом деле довольно привычная вещь. Вот пишете вы, скажем, о взятии Измаила или дуэли Пушкина и вдруг понимаете, что о себе-то любимом ничего толком и не сказали. То есть творчество каждого писателя — это он сам, пишущий, пардон за тавтологию, всю жизнь одну и ту же книгу. Но книга, может быть, и одна, да образ автора в ней какой-то размытый, что ли. Хочется, понимаете, войти в историю с парой-тройкой своих собственных афоризмов, не завуалированных под монолог то ли князя Андрея, то ли еще какого-нибудь кукиша в кармане из «Пикника на обочине».
Впрочем, в «Брисбене» Евгения Водолазкина (М.: АСТ) техника «самореализации» несколько иная. С одной стороны, конечно, это «литературный пересказ» биографии автора, а с другой — сам он дает высказаться в романе своим коллегам по литературному цеху. То есть и главный герой, и остальные персонажи — образы собирательные, списанные с узнаваемых лиц из мира культуры. Да и сюжет о том же, наболевшем. Известному музыканту, начинающему понемногу выходить в тираж, случайный попутчик в самолете, оказавшийся, как все уже догадались, писателем, предлагает стать героем его книги. Кто б не хотел? Ну и, собственно, понеслось. Волны памяти, девятый вал вдохновения, игры ассоциаций с аберрациями вкупе и прочие рефлексии родом из детства, отрочества, юности. Словом, этакий слалом с вылетом за бордюр и поребрик семейной истории в день сегодняшний. «И музыка трагическая, соответствующая этому спуску, — двухчастные фразы. Что это была за музыка? Lacrimosa? За пультом Герберт фон Караян? Вряд ли... Вряд ли Караян бывал в Каменце-Подольском. Игры памяти, привычка мыслить в музыкальных образах». Ну и в литературных, конечно, тоже. Точнее — в языковых.
 В самом начале, рассказывая о киевском детстве своего героя, автор, конечно, предупреждает, что «звонкие согласные в конце слога не оглушаются, о в безударном положении не переходит в а», но все равно получаются какие-то невозвратные глаголы. То есть читатель, не знающий языка, досадно, должно быть, морщится, натыкаясь на торчащие свечки буквы «і», или даже хохочет, приговаривая, как в рассказе Тютюнника, «вот дают, хохлы», но уж точно пропускает обязательные при этом транскрипции. «Прыкро — это досадно, сказала Ирина. Да, досадно, подтвердил Федор».
В самом начале, рассказывая о киевском детстве своего героя, автор, конечно, предупреждает, что «звонкие согласные в конце слога не оглушаются, о в безударном положении не переходит в а», но все равно получаются какие-то невозвратные глаголы. То есть читатель, не знающий языка, досадно, должно быть, морщится, натыкаясь на торчащие свечки буквы «і», или даже хохочет, приговаривая, как в рассказе Тютюнника, «вот дают, хохлы», но уж точно пропускает обязательные при этом транскрипции. «Прыкро — это досадно, сказала Ирина. Да, досадно, подтвердил Федор».
Впрочем, так даже интереснее — а каков, действительно, был Киев 1970-х, в котором, как вспоминает автор, «мало кто называл отцов «тато»? А был он обычным имперским городом, не столицей, а хутором, на котором, как говаривали футуристы 1920-х, царила зеленая тоска. С тех пор, кстати, ничего в памяти автора-героя не изменилось, и разговаривает отец на украинском лишь оттого, что приехал из Каменца-Подольского, и никакая диссидентская эпоха 70-х с Дзюбой, Светличным, Стусом и прочими героями «оттепели» в этом не повинны. «Южнорусская школа» была, «доехал до Харькова, наконец-то юг» у Чехова — тоже, а вот отрезанная кагэбистами голова художницы Аллы Горской, активистки «киевской весны», почему-то не запомнилась.
То есть речь, чтобы все понимали, о чистом продукте памяти, без примеси исторической правды и позднейших аберраций. Поскольку герою было всего семь лет и автор, рассказывая о нем (и вообще об «украинской» ситуации), предпочитает избегать «взрослого» взгляда на жизнь. Ведь тогда, вы правы, это была бы совсем другая рефлексия. А так все норм, широка страна его родная, и «темноволосого южанина Федора притягивала северная красота Ирины». («Южанин», если что, это не кавказец, просто Украина в русской литературе всегда была и остается, как видим, «югом России»).
Не обошлось без грамматических курьезов, в которых довольно наивно, для непонятливых, зашифрована суть конфликта. «Главное отличие: в украинском путь — она. Грамматический женский род. Однажды Глеб спросил отца, как так получилось, что путь — она. Тому що наша путь, ответил Федор, вона як жiнка, м’яка та лагiдна, в той час як росiйський путь — жорсткий, для життя непередбачений. Саме тому у нас i не може бути спiльної путi». Раскрывается хитрость просто: «спільна путь» в украинском языке не употребляется, вместо нее есть «спільний шлях», который все-таки мужского рода, так что «дружба народов» в итоге сохраняется, не волнуйтесь. «Какая сила может / Разрушить этот герб», — помнится, писала по этому поводу Новелла Матвеева, но язык официального договора о разрыве «дружеской» аорты, кажется, может все.
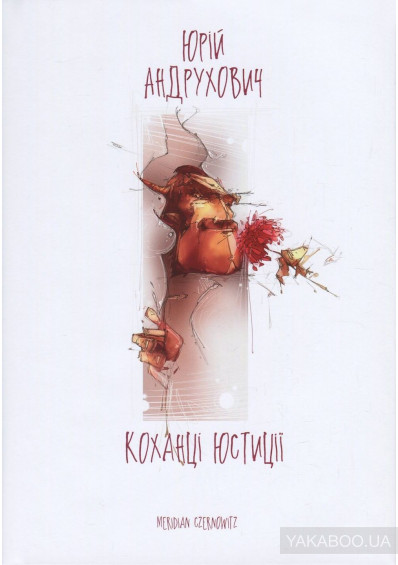 Следующий роман нашего обзора только что получил премию «Книга года Би-Би-Си», присуждаемую, соответственно, за лучшую украинскую книгу в данный период непростого нашего времени. Неудивительно, что «Коханці Юстиції» Юрия Андруховича (Meridian Czernowitz) — о криминале в жизни автора, нашей с вами истории и вообще в мировой культуре. Но гораздо важнее, конечно, то, что «живой» классик современной украинской литературы, наконец, порадовал нас новой книгой, названной то ли им самим, то ли издателем — «паранормальным» романом. На самом деле это, конечно же, никакой не роман (поскольку автор давно уже перешел на эссеистику), а «восемь с половиной» замечательных рассказов. Именно они и складываются в своеобразный роман — со временем, памятью, детством-юностью и, безусловно, советской зрелостью. Более того, объединяет их — пусть даже не сюжетно, но по крайней мере тематически — общая черта, присущая всем героям рассказов. Это, во-первых, страсть к преступлениям, а во-вторых, тайная любовь. В данном случае, как видно из названия «романа», все они зависят от богини правосудия.
Следующий роман нашего обзора только что получил премию «Книга года Би-Би-Си», присуждаемую, соответственно, за лучшую украинскую книгу в данный период непростого нашего времени. Неудивительно, что «Коханці Юстиції» Юрия Андруховича (Meridian Czernowitz) — о криминале в жизни автора, нашей с вами истории и вообще в мировой культуре. Но гораздо важнее, конечно, то, что «живой» классик современной украинской литературы, наконец, порадовал нас новой книгой, названной то ли им самим, то ли издателем — «паранормальным» романом. На самом деле это, конечно же, никакой не роман (поскольку автор давно уже перешел на эссеистику), а «восемь с половиной» замечательных рассказов. Именно они и складываются в своеобразный роман — со временем, памятью, детством-юностью и, безусловно, советской зрелостью. Более того, объединяет их — пусть даже не сюжетно, но по крайней мере тематически — общая черта, присущая всем героям рассказов. Это, во-первых, страсть к преступлениям, а во-вторых, тайная любовь. В данном случае, как видно из названия «романа», все они зависят от богини правосудия.
Кого же мы видим в этой галерее убийц и душегубов, населяющих необычный эпос уголовного мира, родом из судебных актов и криминальных хроник старого Львова? Представители его пестрые и разнообразные: это и герои городских легенд, и чернокнижники, и повстанцы — вымышленные, реальные, живые и мертвые души из коллекции тайных страстей. Разбойник Самойло Немирич, тайный агент Богдан Сташинский, средневековый монах Альберт Вироземский, террорист Мирослав Сочинский, бизнесмен Марио Понграц, причастный к расстрелу подпольщиков-националистов, и даже Фантомас из кинематографического детства автора. «Чтобы этот роман был написан, я должен был несколько раз становиться другим человеком. Я не придумывал этих историй: они сами меня находили, а я только дополнял их вероятными деталями. Хотелось создать насыщенный и в то же время увлекательный текст, от которого читателю очень нелегко оторваться. Судя по реакции первых читателей, это в значительной степени удалось», — рассказывает Юрий Андрухович.
Автор предисловия к следующей книге тоже удачно подметила и особенности ее жанра, и стилистическую направленность, и вообще смысл издания подобной литературы. Ведь речь в «Казенном доме» (М.: Время, 2018) о детских воспоминаниях; фишка же такова, что «смутный детский протест во взрослом возрасте превращается в уверенность в том, что человек не должен так жить», ну а смысл... Говорят, чтобы другим неповадно было.
 В таком ключе и рассказывают о своем детстве в стихах и прозе авторы этого сборника. Линор Горалик и Лев Рубинштейн, Алексей Цветков и Мария Галина, Андрей Бильжо и Борис Минаев. Вспоминают, в основном, в прозе — жесткой, грустной, суровой, поскольку какая уж тут поэзия?! Поначалу, правда, не без лирики. Все-таки первый коммунальный опыт, полученный в самом нежном возрасте. «Впрок молодой-красивый / Или дурной-хороший / В детском саду играет: / Трогает твою сливу», — вспоминает детство золотое Мария Степанова. Хотя кормили хорошо. «В детсаду бывала творожная запеканка со сгущенкой или сметаной. Хуже, когда в ту же запеканку попадали недоеденные накануне макароны, — они стекленели и напоминали пресноватых червей», — делится Люба Гурова. Дальше идут весенние игры уже в осеннем саду, и Людмила Улицкая в рассказе с говорящим названием «Выход» тужится вспомнить, какие уборные были в «Артеке». В котором, добавим, она не была, но обычного заводского пионерского лагеря ей вполне хватило. Да, упомянутые игры были соответствующие. «Сюжет игры был прост и актуален — ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины», — сообщает в рассказе «Пионерское лето в прекрасном женском обществе» Ольга Вельчинская.
В таком ключе и рассказывают о своем детстве в стихах и прозе авторы этого сборника. Линор Горалик и Лев Рубинштейн, Алексей Цветков и Мария Галина, Андрей Бильжо и Борис Минаев. Вспоминают, в основном, в прозе — жесткой, грустной, суровой, поскольку какая уж тут поэзия?! Поначалу, правда, не без лирики. Все-таки первый коммунальный опыт, полученный в самом нежном возрасте. «Впрок молодой-красивый / Или дурной-хороший / В детском саду играет: / Трогает твою сливу», — вспоминает детство золотое Мария Степанова. Хотя кормили хорошо. «В детсаду бывала творожная запеканка со сгущенкой или сметаной. Хуже, когда в ту же запеканку попадали недоеденные накануне макароны, — они стекленели и напоминали пресноватых червей», — делится Люба Гурова. Дальше идут весенние игры уже в осеннем саду, и Людмила Улицкая в рассказе с говорящим названием «Выход» тужится вспомнить, какие уборные были в «Артеке». В котором, добавим, она не была, но обычного заводского пионерского лагеря ей вполне хватило. Да, упомянутые игры были соответствующие. «Сюжет игры был прост и актуален — ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины», — сообщает в рассказе «Пионерское лето в прекрасном женском обществе» Ольга Вельчинская.
А вообще-то, наверное, каждый, кто хоть краешком судьбы захватил голенастое счастье советского детства, может поделиться памятью о своем коммунальном «счастье». Детсадовская дача, пионерлагерь, санаторий. Запах хлорки, звук кефирной крышечки, размокшее мыло в душевой.
«Помню пионерский лагерь, — пишет Гриша Брускин. — Родители коварно бросили меня. Я меньше всех, слабее всех. Мальчишки писают в мою кровать. Подлец Миронов караулит, не дает прохода...». Это еще индивидуальное, согласитесь, а вот роднит всех авторов сборника — словно жителей одного социального улья — кажется, одно-единственное выражение, высказанное, правда, более поздним их коллегой, когда думать и говорить можно было в полный голос. Все равно ведь никто уже не услышит, Советский Союз распался, и стали видны другие берега.
Так вот, «детство-детство, будь ты проклято», — вспоминал он начало своего пути, и большинство авторов сборника с ним согласятся. «Мама рассказывала, что когда они с отцом приехали меня навещать, — вспоминает одна из них, — воспитательница сказала: „Заберите ее. Некоторые дети плачут, а она стоит у решетки и смотрит на дорогу. И молчит, не плачет. Заберите“. И меня забрали». В принципе, заметим, не только закаленных в своем детском горе героев изолировали в те хмурые времена от более счастливого общества, но об этом возрасте — как-то слишком остро. Словно прореха в душе целого поколения. «Через эту дырку я и решила бежать домой, когда лагерь отправится в поход, — не унимается наша коллективная память. — На заре, когда из мрака выходит юная Эос. Я думала, вот все уйдут, и я улизну. А оказалось, что дырку заделали, потому что территорию готовили к военной игре „Заря“. Вот вам и Эос».
























