Произведения этого автора переведены на многие языки, их ставят в театрах Европы, Азии и обеих Америк, по ним снимают фильмы известные режиссеры. В частности, экранизация пьесы «Том на ферме» Мишеля Марка Бушара (К.: Видавництво Анетти Антоненко) в 2013 году победила на Венецианском кинофестивале и недавно, наконец, добралась в Украину. Но почему именно эту книжку лучше читать, чем смотреть? Дело в том, что медленное чтение открывает горизонты не только злободневной темы «сексуальных меньшинств», но и ее предыстории в более широкой историко-литературной перспективе.
 Например, приезд героя — юного менеджера из Парижа — на похороны своего любовника в его родное село. Напоминает, честно говоря, «Постороннего» Камю. Самый близкий человек здесь тоже никому не нужен, его никто не слышит, и его реплики в пьесе Бушара — сплошные мысли вслух, которыми он отвечает на редкие вопросы семьи погибшего. Оказывается, никто, само собой, не знал о пагубной страсти покойного и, более того, из города ждали его невесту, а не близкого друга.
Например, приезд героя — юного менеджера из Парижа — на похороны своего любовника в его родное село. Напоминает, честно говоря, «Постороннего» Камю. Самый близкий человек здесь тоже никому не нужен, его никто не слышит, и его реплики в пьесе Бушара — сплошные мысли вслух, которыми он отвечает на редкие вопросы семьи погибшего. Оказывается, никто, само собой, не знал о пагубной страсти покойного и, более того, из города ждали его невесту, а не близкого друга.
Даже само название пьесы отсылает еще к одному знаковому эпизоду из истории культуры. Известного английского художника Фрэнсиса Бэкона в 16-летнем возрасте, как известно, выгнал из дома отец, отставной офицер, застав его облаченным в женское белье в компании конюхов, и именно это стало началом истории нашего героя. В данном случае и конюх на ферме имеется (брат покойного), и в белье наш герой облачается. Дело в том, что кроме явных, «театральных», штампов массовой культуры вроде «Тома» в названии пьесы, отсылающего к всемирно известной серии комиксов гомоэротического характера, автор в своем тексте использует более глубокие знаки и символы
То есть понятно, что в данном случае поднимаются проблемы равенства, однополой любви и роковой силы социальных стереотипов. Но история у Бушара не зря перенесена в привычный, даже патриархальный регистр отношений, где она приобретает признаки типичного явления. Смерть любовника, ложь в семье, противостояние села и города — это ведь извечное противостояние цивилизации и культуры. И все это нам пытаются рассказать в привычных категориях, но финал сметает привычную в таких случаях политкорректность. «Кто-то становится мистификатором собственной жизни, а кто-то — посмешищем, — устало напоминает автор. — Презрение к гомосексуалистам не осталось в прошлом, как некоторым хотелось бы думать, особенно тем, кто устал об этом слышать, или тем, кто, как и большинство, убеждены, что если проблему обсуждают в медиа, то кто-то ею занимается».
Следующая книга нашего обзора предваряется сразу двумя эпиграфами (на которые не стоит обращать внимание, поскольку окажется, что начинал ее писать еще Лев Толстой) и одним предуведомлением в стиле Пригова. Мол, все тексты в «Сидеть и смотреть» Дмитрия Данилова (М.: Новое литературное обозрение) были созданы в режиме реального времени, то есть непосредственно в процессе наблюдения, при помощи смартфонов Samsung Galaxy Note II, Samsung i990 и Alcatel One Touch Pixi 4007D. И совсем уж ернически автор выражает всем трем устройствам свою искреннюю благодарность.
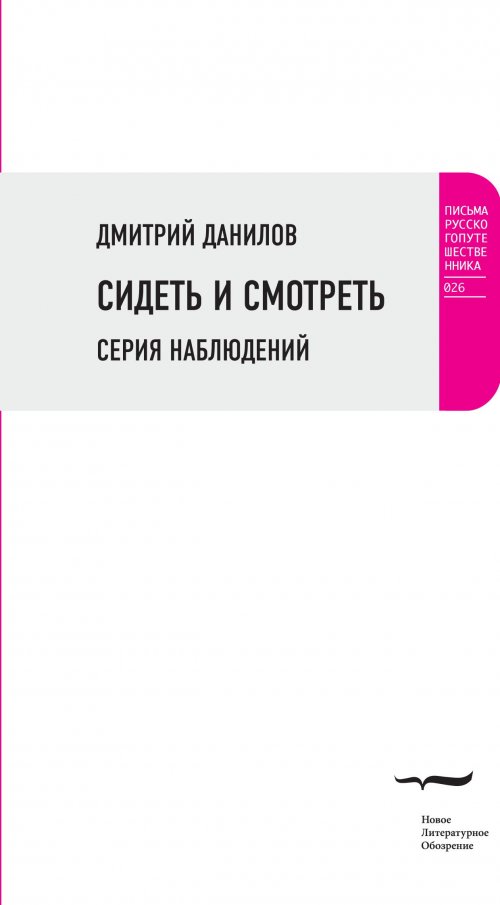 На самом же деле генеалогия жанра здесь более ветвистая, чем просто «литература опыта», как ее нынче принято величать. Во-первых, кроме Толстого, который советовал «не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что случалось наблюдать в жизни», этим порой пробавлялся Чехов. Признаваясь, что для него «высшее наслаждение — ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие — собирать то, что не нужно (листики, солому и проч.) и делать бесполезное».
На самом же деле генеалогия жанра здесь более ветвистая, чем просто «литература опыта», как ее нынче принято величать. Во-первых, кроме Толстого, который советовал «не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что случалось наблюдать в жизни», этим порой пробавлялся Чехов. Признаваясь, что для него «высшее наслаждение — ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие — собирать то, что не нужно (листики, солому и проч.) и делать бесполезное».
Как бы там ни было, но эксперимент Дмитрия Данилова (просто «сидеть и смотреть», куда поехал грузовик и сколько прошло девушек), будучи воспроизведен в книге, неожиданно настраивает на определенный тип восприятия, когда не вполглаза, а действительно втягиваешься. И аннотация зря утверждает, что это не рассказы, поскольку тексты иногда напоминают Хармса. Порой кажется, что из них можно составить целую повесть, дописав его «Старуху». «На скамейку села пожилая дама в черном и закурила». «Мимо идет толстый человек и на ходу читает текст, напечатанный на газетной бумаге». «Две маленьких собачки на поводках вдруг страшно расшумелись и разругались». И что это не роман — тоже зря, поскольку записи, выстраиваясь в сюжетный ряд, напоминают «Невесту» Рагозина. Там тоже заснул, а проснулся — всюду жизнь. То есть, когда его герой «со смущением и досадой обнаружил, что, пока с закрытыми глазами безуспешно придумывал сон, у него появился сосед».
Причем таких соседей не то что в книжке Данилова, а вообще в целой Европе не на каждой лавке найдешь, поскольку там для них на городской площади, говорят, специальную кабину установили. «Грязная майка пузырем, штаны разинуты, и пальцы, кривляясь, контрастом с невозмутимым выражением невыразительного лица, судорожно надраивают наведенное на солнце орудие внушающих благоговейный ужас размеров».
Отсидев свое на скамейках Мадрида, Берлина, Вены, Афин, Тель-Авива, Хайфы и совсем немного — Москвы, Брянска и Великого Новгорода, автор пускается в дальний путь уже транзитным пассажиром. И вот чешет он, значит, во второй части своей книги в поезде «Москва — Владивосток», а там, оказывается, гораздо лучше, чем в Италии на лавочке. Веселее, что ли, привычнее. «В вагоне спокойно, даже как-то уютно. Прапорщик и его жена читают что-то на верхних полках. Пожилая дама дремлет. Полковник в отставке играет с цыганом в карты». На какой автобусной остановке вы еще увидите такое? Какого еще Запада вам надо? — как бы восклицает автор, попав, наконец, в родную атмосферу коллективной безмятежности, а не тревожного одиночества в сети европейских фантазий.
 Или вот еще глубинка. «Краткая книга прощаний» Владимира Рафеенко (Х.: Фабула) — по сути, первая книга прозы донецкого автора, публиковавшегося после этого исключительно в российских издательствах. Этакий короткий метр местного эпикурейца и бонвивана, в дальнейшем развившийся в полноценный жанр романа, и не одного. «Снилась Волку Золотая собака. Он заулыбался и проснулся. Встал — походил. Снова лег.
Или вот еще глубинка. «Краткая книга прощаний» Владимира Рафеенко (Х.: Фабула) — по сути, первая книга прозы донецкого автора, публиковавшегося после этого исключительно в российских издательствах. Этакий короткий метр местного эпикурейца и бонвивана, в дальнейшем развившийся в полноценный жанр романа, и не одного. «Снилась Волку Золотая собака. Он заулыбался и проснулся. Встал — походил. Снова лег.
Сон продолжился. Часа в четыре пошел к реке. Попил. Посидел. Мог поймать зайца, но не стал. — Зайцы — не виноваты, — подумал Волк, — виноваты все мы».
Как бы там ни было, но читать все это совсем не скучно. Скорее, наоборот, читать это бывает больно и горько. От знакомой сладости некоторых ситуаций першит в горле и сосет под ложечкой. И если в результате экономного письма у автора получаются довольно простые сюжетные построения, то эта простота того же рода, что и у классиков жанра. То есть, допустим, у Добычина и Ремизова. Письмо вроде бы ни о чем, а на самом деле о главном — о Боге, боли, смерти. Все эти тексты донецкого анахорета о Заболоте, Марише Потопе, Власе, Николае — не что иное, как очередная попытка озвучить одиночество. «Эй, Вишня, — уговаривал Вишня себя, — у нас еще что-то осталось! У нас еще есть Диего Веласкес, Маркес, медсестра Зоя, три сотни в кубышке и новый, удивительный стетоскоп!».
В этих рассказах почти отсутствует время и место действия. Все происходит будто в беспросветном пространстве какого-то вязкого сна, который в целом представляется не лучшим, чем горьковатая реальность: «Какая там весна, — не согласился Влас, — июнь на дворе. Март, — устало сказал шеф, — март, ты просто забыл». Причем это сейчас мы пишем с заглавной буквы слова, имена и чувство, присутствующие в рассказах Рафеенко, а в самой «прощальной» книге все довольно просто и невинно, все вроде бы случайно и с буквы прописной — вдруг приобретает символическое значение. Кабан, накормленный мокрыми газетами, видит сон, в котором аэропланы и листовки, словом, революция. Немолодой врач, заснув в трамвае, слышит сквозь сон, как кто-то тормошит его за плечо, приговаривая: «Тетя Маня, тетя Маня, проснитесь». Просыпается, а он — действительно, дворничиха тетя Маня, и впереди у него «асфальт, осенние листья, ужас старого женского тела». И подобные детали кошмарных, апокалипсических видений оказываются будничной жизнью для большинства героев этой необычной книги.
Время от времени они борются с этой «жизнью во сне»: убегают из дома, едут на съемки к Феллини, в конце концов, просто вешаются. Хотя по большей части остаются жить. Их удивление собственной судьбой в прозе Рафеенко не обозначено даже знаком вопроса в конце вопля: «Когда все закончилось, Николай в халате пошел выносить мусор из квартиры. На улице дуло, сумерки трещали от разрядов близкой грозы. — Мамочка родная, — подумал он, разглядывая яркие окна, — когда же я поумнею?». Недоумение подобного рода, за которым скрываются исконные «проклятые вопросы» русской литературы, слишком пронзительно именно на фоне веселого маразма, который случается в «Краткой книге прощаний».
























